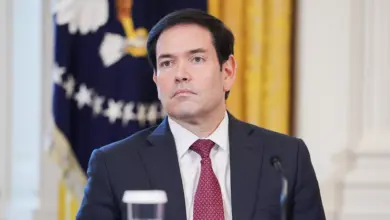Вадим ЧЕКУНОВ
Александр Проханов, «Лемнер». АСТ, ред. «КПД». — М., 2025
«Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой?
Ты иной раз метаешься как угорелый, дело подчас так спутаешь,
что сам сатана не разберёт…».
Н.В. Гоголь, «Записки сумасшедшего».
Захар Прилепин не просто буквой «пэ» представляет серёдку в названии редакции «КПД». Евгений Николаич — давний поклонник творчества Александра Андреевича и никогда не скупится в восторгах и похвалах в его адрес. Практически каждую статью о прохановской прозе он щедро шпигует эпитетами — она у него и «духовная», и «судьбоносная», и вообще полна потрясений с восхитительностями. Да что там, любая книга мэтра вызывает у Прилепина приступы экзальтации: «Какой жар я испытал, пока жил с этой книгой, какую жуть, какую жалость! Какое ощущение чуда! С тех пор уже второе десятилетие пошло, как я с Прохановым не расстаюсь…»
Такое постоянство минувшим летом нашло своё подтверждение. В редакции «КПД» вышел новый текст прилепинского литературного любовника, давно назначенного им «звездой: такой лохматой, грузной, с пышной гривой, обдающей то холодом, то жаром». Умри, Захар, лучше не скажешь! Что есть, то есть — всяким обдало при чтении буквопродукта под названием «Лемнер», и одними лишь температурными амплитудами дело не обошлось.
Впрочем, Александра Андреевича я тоже люблю и уважаю. Постоянно привожу его в пример начинающим и продвинутым графоманам — вот, ребята, учитесь, как надо. Ибо Проханов умеет в своих текстах, будь то художественная проза или газетная статья, дать невероятного угля и жару — с буйством, подвываниями, камланиями и прочим безумным разгуляем с бубнами и танцами до утра. Такое дано не каждому. Прохановская графомания — наивысшего порядка, недостижимая, как далёкая звезда, но зато эталонная и путеводная. В неё падаешь, как пьяный в воду с борта круизного лайнера, в ней и тонешь так же нелепо. Читать такое категорически не рекомендуется, издавать тоже, а вот уметь так писать можно и поучиться, для баловства и разнообразия. Главное, не пропускать приём лекарств.
В случае с романом «Лемнер» с первых же страниц бросается в глаза, что таблеток не принимал никто. И если неряшливость автора в силу его почтенного возраста ещё понять можно, то недуги редакторско-корректорской службы в «КПД» вызывают вопрос: позвольте, а как же вы, господа-товарищи, вообще умудряетесь служить в очистке? Судите сами. Начинается роман с места в карьер со слов:
«Две фирмы, учреждённые Михаилом Соломоновичем Лемнером, обеспечивали ему благополучие и заметное положение в обществе — бюро сексуальных услуг »Лоск» и частное охранное предприятие »Волк»».
Что ж, хорошо и дай бог здоровья с успехом респектабельному сутенёру и охраннику. Все профессии нужны, все профессии важны. Но уже следующий, второй абзац неожиданно сообщает:
«Михаил Соломонович при бюро “Лад“ основал ”Школу эротических таинств“».
Па-а-азвольте… Откуда этот «Лад» вдруг взялся, будь он неладен? Кто-нибудь из редакторов текст вычитывал, ну хоть вообще файл открывал? Сдаётся, с прохановской рукописью в редакции «КПД» поступили ровно так же, как в повести Юрия Полякова «Козлёнок в молоке» обошлись с «романом» Витьки Акашина. Никто не читал, но вещь сильная. А напрасно не читали. Весело время провели бы. Ибо сразу после невесть откуда выскочившего бюро «Лад» автор в виде разогрева старческого сладострастия приступает к описанию штата «ладных» сотрудниц:
«Наставницами приглашались самые искусные эротоманки мира. Они знали тайные обряды европейских масонов, африканские свирепые инициации, мучительный, со смертельным исходом, японский эротизм, тяжёлые латиноамериканские соития, похожие на животные случки».
Досадное авторское упущение, зря он пренебрёг ещё одним континентом и ничего не поведал, например, про антарктические забавы полярников, похожие на игрища королевских пингвинов…
Но вернёмся к нашему Михаилу Соломоновичу Лемнеру, литературным вариантом человека, которого звали совершенно наоборот — Евгением Викторовичем Пригожиным. Пригожин в жизни был совсем не пригожим, а тоже наоборот — старым, лысым и страшным, похожим не столько на папу римского, сколько на американского актёра Билла Дьюка (помните негра, «зелёного берета», которого взял и побил в гостинице герой Шварценнегера в фильме «Коммандо»), только посветлее кожей.

С такой-то внешностью пускаться в многочисленные амурные приключения, то и дело ловя на себе восхищенно-влюблённые взгляды роковых красавиц — только лишний раз читателя смешить. Автор это понимает, и поэтому Лемнер в романе предстаёт сущим красавцем писаным, моложе и краше прототипа:
«Чёрные с блеском волосы на косой пробор. Лунно-белое лицо. Углём проведенные брови. Огненные глаза. Сочные губы, иногда слишком яркие, в минуты волнения. Нос с римской горбинкой».
Он филологически образован. Этим и объясняется его безудержная и цветистая говорливость на протяжении всего романа. Экзальтация в речах не только Михаила Соломоновича, но и других персонажей столь комична, что становится понятно — это пародия на всё разом. На все жанры, на всю историю, на всех и вся, но главное — на здравый смысл и чувство меры:
«Ты хотела, чтобы мы обручились на Северном полюсе. Чтобы была сахарная солнечная льдина, на ней стол, полный яств, букет красных роз, и я надеваю на твой чудесный палец золотое кольцо, и оно ослепительно горит в лучах полярного солнца».
Тут очень не хватает выразительной игры очами и живописно-театральных поз персонажа — с воздеванием рук, установкой в третью позицию ножек, романтическим изгибом стана и загадочным вздеванием подбородка. Поленился автор.
Главный герой романа владеет двумя европейскими языками, носит дорогие тёмные костюмы и вольным узлом завязывает шёлковые итальянские галстуки. В общем, совершенно заслуженно возьмёт позывной «Пригожий», когда возглавит ЧВК «Пушкин» и отправится со строками «Я помню чудное мгновенье…» вразумлять туземцев сначала в Африке, а потом и на Украине.
Михаил Соломонович с самого начала романа показывает себя человеком дела. Когда компания моллюскоподобных дизайнеров-наркоманов заказала у него эскортниц и в порыве творческих экспериментов сильно попортила товар, он не стал долго жевать свои сочные губы и хмурить угольные брови. «Суровые телохранители, увешенные рациями и оружием» (господа из редакции «КПД», не экономьте на корректуре, или хотя бы сами разберитесь с разницей между «увешенный» и «увешанный» — у вас там и в другой главе дом будет «увешен памятными досками») во главе с Лемнером приехали на место отдыха извращенцев да всех их порешили. Читателю особо поясняется:
«Это была расплата с недобросовестными пользователями услуг. Они взяли на прокат ценные изделия, привели их в негодность и поплатились».
Про то, что редакции «КПД» не помешало бы взять напрокат хоть захудалого, но корректора, который знает, как наречия пишутся, уже устал писать и больше, наверное, не буду. Хотя нет, скажу: и который знает, что сорок третья глава так и пишется — «Сорок третья», а не «Сорок тертья». А после сорок шестой главы в нормальных книгах идёт обычно сорок седьмая, а не снова сорок шестая… Но это так, к слову о профпригодности. Конечно, во время подготовки Лемнера и его «увешенных рациями» боевиков не обошлось без элементов комичности и эстетических причуд:
«Они действовали по методике израильских спецслужб. Сменили номера машин. Навинтили на пистолеты глушители. Напялили чулки с прорезями. Тремя машинами отправились на виллу в поселок Свиристелово мешать мужское семя с кровью».
Сразу становится ясно — люди непростые. Рачительные, но озорные. Не просто сэкономили на обычных балаклавах, цена которым пара сотен рублей, но принарядились в прорезные чулки. Возможно, вовсе и не на голову напялили их — ну, не могли же они в чулках на головах ехать через всю Москву-матушку в посёлок Свиристелово коктейль «Кровавое семя» делать…
На мужском семени у автора на протяжении всего романа обнаруживается устойчивая фиксация — «семя» Александром Андреевичем будет упомянуто много-много раз, с навязчивыми повторами и всевозможными эпитетами, больше всего ему приглянется «раскаленное», он его четырежды употребит в одном абзаце. Хлеще дело обстоит лишь с ягодицами, причем в основном мужскими — их автор будет поминать настойчивей и вытворять с ними всевозможные манипуляции, от банального раздвигания до нанесения на них акварельных рисунков и даже размещения лисьих хвостов… Но оставим пока эту авторскую страсть и перейдём к описываемым в тексте делам сердечным:
«Михаил Соломонович приставил нож к сердцу дизайнера и ударил в торец рукоятки. Нож с хрустом пробил грудину и остановился в сердце».
Подлинное мастерство в изображении персонажа проявляется как раз в подобных, на первый взгляд, мелких и якобы ничего не значащих деталях. Банальный убивец — он ведь как сделает? По простому пути пойдёт, скучно меж рёбер нож всадит, и привет. Никакого полёта фантазии и преодоления трудностей. А вот Михаил Соломонович не таков, он интересничает в процессе, и ему непременно нужно посложнее и покрасочнее. Поэтому-то и хрустит дизайнерской грудиной, пробивает кость окаянную — чтобы знал наших! Сказывается филологическое образование, не иначе.
Тем не менее, несмотря на чудачества с чулками, грудинами и семенами, а возможно и благодаря этому, на Лемнера обращают свой пристальный взор сильные мира сего и приглашают на разговор во святая святых, а именно «в Кремль к могущественному приближённому Президента Антону Ростиславовичу Светлову с кратким, как боевой позывной, прозвищем Светоч». Этот инфернальный персонаж раньше был охранником Президента, потом покалечился при исполнении долга, вставил себе терминаторский глаз с лазерным прицелом и поднялся на самые верхи власти, засев в янтарном дворце с видом на одну из знаковых достопримечательностей Кремля. И автор принимается настойчиво разминать читательскую голову, вываливая на неё удачно, как ему кажется, найденный образ:
«В окне круглились мятые золотые купола Успенского собора».
«Снаружи в окно заглядывали мятые купола собора…»
«Золотые головы за окном ударялись одна о другую, оставляя вмятины».
Этой успенской мятостью автор со своим героем столь сильно одержим, что, согласно принципу «хорошее — повтори», будет мучить читателя и потом:
«В окне золотые главы Успенского собора походили на мятые перезрелые груши».
«Лемнер представил кабинет Светоча с мятым золотом куполов»…
Непростительным авторским упущением является отсутствие в тексте какого-нибудь русского шансонье с песней «Золотые купола на груди наколоты, только мятые они, сморщились от холода». Ах, как бы заиграл мятым золотом текст! От всей этой помятости, конечно, Михаил Соломонович впадает в уныние, обречённо сидючи в приёмной Светоча и «глядя, как медленно опадает стрелка настенных часов». Понять человека можно. На его счастье, когда стрелка совсем было безнадёжно повисла, из кабинета Светоча вдруг появляется дива дивная в длинном шёлковом платье.
«Между туфлей и шёлком мелькнула лодыжка, чуткая, страстная, ослепив Михаила Соломоновича. Он жадно выхватил из-под шёлка этот пленительный образ, сберегая до вечера, когда, укладываясь в постель, вспомнит эту чудесную лодыжку и станет её целовать».
Запомним этот момент и вернёмся к нему чуть позже. А тем временем, пока Михаил Соломонович заначивает в сознании ослепительную лодыжку на вечерок, дива дивная начинает тараторить:
«— Михаил Соломонович? Я Лана Веретенова. А правда ли, что у вас в доме висит подлинник Ван Гога “Пшеничное поле возле Оверна”? Проходите, Антон Ростиславович ждёт вас».
Манеры обольстительнолодыжечной Ланы невольно напоминают выпившего фельдкурата Каца из «Швейка», у того ведь тоже, как мы помним, был «неожиданный дар задавать самые разнообразные вопросы:
«— Вы женаты? Любите горгонзолу? Водятся ли у вас в доме клопы? Как поживаете? Была ли у вашей собаки чумка?».
Несчастный Лемнер, совершенно пленённый таким обращением, отправляется в кабинет к Светочу. Там он откровенно мается, тайком разглядывая мятые купола и хрустальный глаз собеседника. А Светоч, переливаясь оком, как светомузыкой, излагает сутенёру деликатное дельце — во имя государственных интересов нужна проститутка из бюро «Лад» (или «Лоск», я уже сам запутался), способная «превратить персону в животное» с обязательной видеофиксацией превращения. Лемнер рассеянно (видать, во власти вечерне-лодыжечного предвкушения) отвечает:
«—Превращение человека в животное требует немалых усилий. Но ещё больших требует обратное превращение животного в человека. Человек обращается охотно и быстро, а возвращает себе людской вид медленно и неохотно».
Тут Светочу взять бы и сказать: «Ты втираешь мне какую-то дичь!». Потому что Михаил Соломонович не просто несёт чушь насчёт немалых усилий — уж ему-то, сутенёру со стажем и убивцу перебравших наркоты дизайнеров, и не знать, как дела обстоят на самом деле, — так он ещё и противоречит сам себе, следом говоря о быстроте и охотности падения человека. Рекорд авторской забывчивости, из-за которой страдает репутация героя, побит. В случае с «Лоском» и «Ладом» это были соседние абзацы, а тут мы имеем дело с соседними фразами. Про репутацию «КПД» я обещал ничего более не писать.
Потом философствующий Михаил Соломонович просит назвать имя персоны, которую надо снабдить порцией эротического озверина. Имя ему называют, и этой персоной оказывается чубайсообразный, конопатый Анатолий Ефремович Чулаки:
«Чулаки олицетворял государство. Из рыжих веснушек на его надменном лице, как из семени неведомых сорняков, произросло Государство Российское. Его крепкие властные руки закрывали заводы, пускали на переплав крейсеры и подводные лодки, подписывали дарственные, делавшие миллиардерами мелких торговцев, спалили дотла парламент, пожимали холёные, в перстнях, длани европейских аристократов, открывали без стука двери масонских лож, усадили Леонида Леонидовича Троевидова в президентское кресло. Анатолий Ефремович Чулаки был приближен к Президенту так тесно, что казалось: Президент повторяет его высказывания, подражает жестам».
Отметим, что это не Отец Лжи нашёптывает в левое ухо главного героя. И даже не Светоч с испускающим цветные лучи глазом. Как мы видим, никакие отрицательные персонажи не говорят о том, что сам Троевидов усажен в президентское кресло конопатыми по локоть руками отъявленного мерзавца и не просто сидит там, а вовсю копирует своего благодетеля. Это подаётся читателю в виде объективной информации как факт. Лемнер охотно соглашается сексуально оскотинить президентского куратора и покидает кабинет, на выходе вспоминая пленившую его Лану Веретенову.
«И отдельно вспомнил сверкнувшую из шелков её ослепительную лодыжку».
Не удержался, стало быть, до вечера. Торопыжка-скорострел. Никакой выдержки и солидности. Ну как такому верить, как на такого рассчитывать?..
Но не будем строги, со всяким бывает. Тем более что следом, во второй главе, повествуется о другой любимице Михаила Соломоновича — проститутке Алле по кличке «Мерлин». Сразу, конечно, вспоминается легендарная лысая проститутка Даша-Мэрилин из фильма «Брат-2», но Алла волосатая, и вообще у неё для пущей соблазнительности внешность тургеневской барышни. Как истинный мастер своего дела, Михаил Соломонович отловил эту Аллу в какой-то из подворотен, отмыл, приодел, обучил манерам. Даже тряхнул своим, гм, филологическим прошлым ради удачной находки:
«Избавил от провинциального говорка, дал несколько уроков английского».
А и действительно, несколько уроков иностранного — самое оно, куда больше-то. Наверняка рабочим словарём всё той же чикагской Даши-Мэрилин вдохновлялся: «Хэллоу, гайз, хау ар ю? Блоу джоб сётин бакс. Ю пэй тен фор вотчинг».

Куда тщательней, чем языку потенциального противника, в «Школе эротических таинств» набранные туда «немецкие мастерицы истязаний, тайские искусницы смертельных ласк, хакасские колдуньи» отмытую и овладевшую обращением со столовыми приборами Аллу-Мерлин учили «воплям тростниковой кошки, вою марала, клёкоту разгневанной орлицы». И вновь упущение автора — ведь сколько всего мог упомянуть ещё: и визги довольной самки кабана, и трубный рёв слонихи, и утробное уханье гориллы, и победное блеяние горной козы… Эх, Александр Андреевич! В следующей фразе нас ждёт принцип «смешное повтори, будет ещё смешнее». Правда, благородный олень немного пришёл в себя и теперь уже не воет на луну, а жарко ревёт, как и полагается парнокопытным:
«…охранники с изумлением слышали из опочивальни хозяина крик тростниковой кошки, жаркий рёв марала, клёкот терзающей добычу орлицы».
Хотя, возможно, маралом реветь умел и сам хозяин — всё же филологическое образование позволяло ему разные причуды, как мы помним.
Операция по соблазнению Аллой-Мерлин богомерзкого Чулаки на одном из светских приёмов была проведена безупречно. Столь же отменно сама операция описана автором — в лучших традициях наихудшей графомании. Вот цветисто задумался главный герой, «не перетрут ли его в щепотку жернова, которые скоро закрутятся на вековечной русской мельнице». И далее автор умелым скупым штрихом описывает состояние героя: «Он испытал панику». Стыдитесь, литературные неудачники, рассуждающие про «не называй — показывай». Внимайте Мастеру слова.
На этом же приёме вдруг появляется давняя Лана — но, к огромному сожалению Лемнера, в таком длинном платье, что лодыжка с туфлей скрыта и «счастливого ослепления не случилось». Зато случилось соединение душ героев в виде их неудержимой логореи:
— На чём же вы гадаете?
— На картах, на тучах, на зерне, на морозном узоре, на скрипах калитки, на лунной тени, на крике совы, на шелках, на холстах, на пяльцах, на кольцах, на лягушачьих лапках, на мышиных хвостах, на ромашках, на розах, на каменных львах, на церковных куполах, на водорослях, на раковинах, на ветре, на течении, на заморозках, на присказках, на притолоках.
— На половицах, на горшках, на ухватах.
— На ступах, на мётлах, на курьих ножках.
— На козьих рожках, на ложках и сороконожках.
И снова укор автору — не позволяй душе лениться. Раз уж начат такой дивный диалог, надо вести его до логичного медицинского финала:
— На солдатских сапогах, на поношенных трусах.
— На гнутых вилках, пивных бутылках.
— На ёршике для унитаза да на шлеме водолаза.
— На семени дикобраза и квитанциях Мосгаза.
— На пивной пробке и узбекском хлопке.
— На японке в юбчонке и жабе в коробчонке.
— На пассатижах, на лыжах, на паховых грыжах…
— На яичке золотом и направлении в дурдом.
Но в целом диалоги автору удаются отменно. Модель построения явно почерпнута из учебно-методического комплекта по русскому языку для школ с родным (нерусским) языком для 1-4 классов:
«— Вы готовы вступить в церковь Великого Перехода? — вопрошал Чулаки.
— Готов, — пролепетал Лемнер. — Хочу пополнить коллекцию полотном Винсента Ван Гога “Пшеничное поле возле Оверна”.
Герои проходят череду залов и попадают в гостиную, где некий завскладом Аркадий Францевич потчует их чаем и говорит:
«— Я слышал о шедевре Ван Гога “Пшеничное поле возле Оверна”. Чудесно, что он пополнит нашу коллекцию».
Я много лет преподавал русский язык как иностранный и могу подтвердить: нет ничего полезнее и лучше диалогов в стиле:
— Виктор, ты идёшь в театр на балет Чайковского «Лебединое озеро»?
— Да, Маша, я иду в театр на балет Чайковского «Лебединое озеро».
— Как я люблю Чайковского и его балет «Лебединое озеро»!
— Я тоже очень люблю Чайковского, особенно «Лебединое озеро».
— Виктор, давай пойдём вместе на балет «Лебединое озеро», ведь это Чайковский!
— С удовольствием, Маша! Приглашаю тебя на балет Чайковского «Лебединое озеро».
— Спасибо, Виктор! Ура! Мы вместе идём на балет Чайковского «Лебединое озеро»!
И вам спасибо, Александр Андреевич, за словесное мастерство.
Помимо одноглазого Светоча с конопатым Чулаки в романе полно и других колоритных личностей из мира политики. Некоторые из них, подобно оппозиционеру Борису Ефимовичу Штуму, застреленному несколько лет назад на Кремлёвском мосту чеченом-киллером, хранятся в заспиртованном виде в специальных колбах-шкафах в кабинете Светоча и в действие сильно не вмешиваются. Влюбчивая самка Ксения Анатольевна Сверчок тоже не шибко досаждает — знай себе совокупляется с африканцами да мечет икру в проруби. Среди временно живых персонажей имеется подозрительный тип гражданской наружности по фамилии Сюрлёнис, он всемогущий заместитель главы Президентской администрации, одевается ярко, как попугай, и носит «розовые носки, на которых теперь красовались буквы “зет” и “ви”». А на заднем плане вовсю суетятся и порой выскакивают к рампе персонажи помельче, все как один с выраженной олигофренией: толстенький ректор ВШЭ Лео, мерзкий режиссёр Серебряковский, лысый публицист с французским гражданством по фамилии Формер и носящий за пазухой целую стаю собачек корги юродивый вице-премьер Аполинарьев. Судьба их предсказуемо незавидна — любитель деликатных поручений Светоч, наполнив свой хрустальный глаз тьмой, поручает всю компанию пропустить через своеобразный конвейер: сначала сексуальное оскотинивание Аллой-Мерлин с видеофиксацией, потом кровавые пытки проститутками-садистками, затем шутовское судилище в пародийной стилистике тридцатых годов, ну, и напоследок прогулка через оранжерею с методичным расстрелом каждого в мрачном бетонном тупике.
Ей-богу, при чтении создаётся впечатление, что не иначе как демон разврата и демон насилия помогали Александру Проханову писать этот роман, толкаясь по бокам автора и по очереди хватая его за длани, заставляя набивать то неловкую пошлятину с плавающими по Москве-реке голыми озорницами-негритянками, то смаковать каждую букву в нудных описаниях нелепых казней.
Но порой эти демоны-трудяги работали сообща, выдавая страницу за страницей вязкого бреда с изображением садо-мазохистских пыток или просто гнали выспреннюю графоманскую бессмыслицу, развлекаясь и потешаясь над автором, в которого они вселились.
Впрочем, имеется мнение, что свои тексты Александр Проханов не пишет, а надиктовывает. Так что, возможно, бесы просто для смеху размахивали его руками, а творческая глоссолалия происходила в каноничной устной форме.
Но вернёмся к персонажам произведения. Весь упомянутый паноптикум из пафосных лже-патриотов и либералов-олигофренов так или иначе вращается вокруг Президента России Леонида Леонидовича Троевидова. Фамилия его прямым текстом отсылает к христианской божественной Троице. Но, возможно, эрудированным автором добавлен в смысл и восточный колорит в виде японского понимания троедушия — структуры духовной сущности человека, правителя и божества. Сам Троевидов предпочитает в романе не появляться, стараясь с помощью автора действовать через своих многочисленных двойников. Список же грехов Леонида Леонидовича внушительный, как и полагается:
«На кровавом аркане втянул Чечню в Россию, поставил в вонючее русское стойло. Оторвал у беззащитной Грузии Абхазию и Осетию. Теперь эти две мерзкие карлицы тешут Троевидова в его имперском дворце. Он вторгся в Сирию, сделал ее русской колонией. Захватил Крым, превратив чудесную античную амфору в свою ночную вазу. Напал на Украину, тащит чудесную свободолюбивую страну в зловонную русскую берлогу».
Одно радует — золотые купола Успенского собора не Леонид Леонидович измял. Это до него было, в каком-то там веке. Но будто Президенту всего перечисленного мало, так он ещё и пиявками омолаживается. Да не простыми отечественными, гадкими и какашечного цвета, а розовыми, из дружественного Китая. Сам китайский Председатель присылает их, наполненных кровью девственниц Поднебесной, своему русскому коллеге. Старую кровь пиявки из Троевидова высасывают, а девственно-молодую — впрыскивают. Не спрашивайте, как это. Такими их мать-природа в лице автора задумала. И вот тут любопытно, что пишут в так называемых «рецензиях»:
«В романе «Лемнер» нет того, в чём пытаются обвинить Проханова недобросовестные критики: ни апологетики пригожинского мятежа, ни негативного отношения к главе государства (те самые отрывки с карикатурным изображением президента — это слова не автора, а Сюрлёниса, одного из антагонистов)».
Вот так, в унисон уверяют нас недобросовестные критики, называя недобросовестными других критиков. И сам автор поддакивает: мол, я не я, и лошадь не моя, это всё плохие злыдни-упыри в моём романе наговорили в адрес президента, читать надо внимательней!
Нет, друзья, это так не работает. И если этого не знаете вы, то сам многоопытный автор знает наверняка, — чем бредовее созданная им «картинка», тем надёжнее и глубже она отложится на подкорке читателя. Будь то ванна с пиявками или танцы Президента в розовом трико с павлиньими перьями на спине, пусть и от якобы недостоверного рассказчика. А каждый, кто кивает на персонажей-антагонистов, сознательно или по рассеянности закрывает глаза на карикатурное (ещё и неграмотное) изображение тренировки двойников президента в кремлёвском дворе:
«Он увидел строй из полтора десятка Президентов. Перед ними расхаживал известный актёр театра Вахтангова и наставлял:
— Так, хорошо! А теперь покашляем!
Все пятнадцать Президентов начинали кашлять, повторяя манеру Президента Леонида Леонидовича Троевидова слегка покашливать.
— Так, хорошо. А теперь ручкой, ручкой махнём!
Все пятнадцать резко взмахивали левой рукой, повторяя характерную для Леонида Леонидовича Троевидова отмашку.
— Теперь отдыхаем. В следующий раз покажу, как правильно целовать в живот выхухоль!»
Эту сцену не какой-то там нехороший Сюрлёнис описывает своими антагонистическими словами. Не отвратительный ректор ВШЭ, не сомнительный театрал-режиссер, не подколодный публицист с французским паспортом. Это непосредственно главный герой романа Лемнер собственными глазами видит тренировку двойников. Выходит, не во всём хулители наврали Михаилу Соломоновичу. Оказывается, двойники есть. А ну как и другое тоже верно?
Мы же, с позиции добросовестной критики зафиксируем — нет ничего нелепее ситуации, когда автор начинает оправдываться за свой текст, да ещё созданный с претензией на фрондёрство и потугами на сатиру. Равно как и так называемым «критикам» нехорошо вводить публику в заблуждение, помогая автору и редакции выкручиваться из щекотливого положения.
Поспешные заплаты и затычки в виде ярлыков со словами «сюрреалистическая прохановская Вселенная», «фантасмагория», «гениальная книга», «босхианский карнавал русской жизни», «метафизический реализм», «религиозно-мистический трактат» и «больше, чем книга» от лукавых рецензентов не в силах скрыть неудобной правды.
Фирменного авторского буйства стиля и безумия смыслов с бубном и камланием в этот раз не вышло. На поверку текст получился неумным и нелепым, набитым неряшливыми страницами бульварной писанины, болотным пузырём поднявшейся со дна «лихих/святых девяностых». Такое писево продавалось с лотков у станций метро и в подземных переходах, в сериях «Опалённые розой и крестом» и «Слепой стреляет из палочки» и лежало стопочками в санузлах панелек и хрущёвок той эпохи. Я там и читал подобное:
«Четыре машины, набитые охранниками из подразделения “Волк”, шли по Ново-Рижскому шоссе среди синих вечерних лесов. “Волки”, как звал их Лемнер, были в одинаковых тёмных куртках. Под мышками бугрились пистолеты. У ног лежали “калаши”. Лемнер держал автомат, ещё пахнущий смазкой, добытый у вороватого прапорщика на ружейном складе. На боку висела кобура с пистолетом. К плечу прилепилась рация. В кармане торчала граната».
Спасибо, Александр Андреевич. Будто в молодость вернули, даже запахом «морского бриза» и «лесной свежести» в нос шибануло. Обдало, как ваш поклонник Захар сказал бы. Даже редкие удачные места, где автор предаётся пародированию других известных писателей, не спасают положения. Вот, например, попытка Проханова притвориться Пелевиным:
— Но ведь нет ни дна, ни покрышки! Ни двора, ни кола! — Лемнер пробовал играть парадоксами. — Значит, нет ни Европы, ни России! А что есть? — Лемнер изнемогал от парадоксов, игра в которые не удавалась ему. — Что есть Великий Переход? От «того» к «сему», или от «сего» к «тому»?
— Великий Переход — это вы, брат Лемнер! Вы мост, по которому Бог переходит в мир. Пуповина, по которой течёт не подверженное порче мироздание! — публицист Формер стал на минуту памятником азиатскому поэту Абаю, но тут же вернул себе европейскую внешность.
Полноте, Александр Андреевич. Это уже до вас жевали и ели, выплюньте. Впрочем, куда отвратительнее выглядят игрища автора в «сорокинщину», где глум над вещами серьёзными уже не думает маскироваться.
Придя к идее, что неплохо бы набрать в свою ЧВК «Пушкин» угодных Богу людей — разбойников, блудниц, слепцов и непорочных детей, Лемнер и его подручный Вава принимают решение провести вербовку на зонах среди маньяков, наведаться с обещанием прозрения на войне в Общество слепых и посулить вседозволенность в пытках и убийствах своим штатным проституткам. Надо признать, откровения серийных убийц и невменяемых сидельцев поданы на высшем уровне бульварного чтива. Дело осталось за малым. Вернее — за малыми. За детьми:
«Теперь Лемнер исполнял евангельскую заповедь: “Будьте, как дети”. Он отправился в подмосковный спортивный лагерь, где детям читали патриотические лекции и давали уроки рукопашного боя».
Воспитатель в погонах полковника поясняет Лемнеру, что у каждого воспитанника есть любимый герой, которому тот стремиться подражать. И для прибывшего гостя устраивают настоящий перформанс. Дети по очереди выходят, рассказывают и показывают. Мальчик Коля, как Пересвет, разбегается с копьём в руках, ударяется о стену и падает, подобно сражённому витязю. Мальчик Олег, изображая Андрея Болконского, бежит со знаменем в руках, потом падает, как смертельно раненый князь. А мальчик Фёдор прижимается грудью к стене и сползает по ней — это показывается смерть Александра Матросова.
До такой мерзости не додумалась даже Гузель Яхина, ещё одна инкурабельная графоманка, которую тоже в своё время нахваливал Прилепин. А что же, Александр Андреевич, не рискнули выписать примерчик посовременнее? Ну, пусть бы очередной мальчик изобразил погибшего в Сирии лётчика Романа Филипова и его легендарное: «Это вам за пацанов!». Или закосплеил несломленного террористами Магомеда Нурбагандова с его «Работайте, братья!»…
Пересказывать бесславный бунт Лемнера и его поход на Москву нужды нет. Расхождения в деталях с известными реальными событиями незначительны — там дело было летом, а тут зимой, там Уткин поддержал Пригожина, а тут подручный Вава командиру подчиняться отказался… Гораздо любопытнее выглядит фрагмент интервью Александра Проханова журналисту Максиму Шевченко:
«Поступок, конечно, ужасный — оставить фронт, сражающуюся армию и пойти на Москву штурмовать штаб, который управляет войной. Это ужасное преступление, почище власовского преступления. Но в данном случае он пошел войной на русскую историю, он хотел ее опрокинуть, и когда его войска…
— Мы говорим, напомню, не о Пригожине, а о Лемнере.
— О Лемнере, да. Когда его армия остановилась под Серпуховом у Оки, ему до Москвы оставалось рукой подать — с Лемнером что-то случилось. Его не разбомбили самолеты и ракеты власти, не подослали убийцу, с ним не вели переговоры сильные мира сего, как Лукашенко общался с Пригожиным.
В романе его остановило русское чудо, которое в 1941 году остановило немцев под Москвой: оно возникло перед мощнейшим немецким корпусом и остановило их машины, заморозило в их баках горючее, опрокинуло вспять их блестящих офицеров. И они побежали не от робких, редких, почти уже не существующих цепей красноармейцев с мосинской винтовкой, а от огненного столпа, в котором являла себя Богородица. Так рассказывала мне моя тетушка, у которой я жил три года в деревне в местах этих чудес».
Вообще-то это — открытое отрицание настоящего подвига реальных советских людей. Это плевок в пусть тех же «робких и редких», но реальных людей «с мосинской винтовкой», ценой своих жизней остановивших врага и ставших героями защиты Москвы и страны. Это подмена подвига советского народа тётушкиными росказнями. В своих сочинениях хоть чортом лысым вашего Лемнера останавливайте, вразумляйте, отпускайте на все четыре стороны «увешенным» чем попало — ваше полное право, Александр Андреевич. Не трогайте только память реальных героев.
Пришло время задаться вопросом: а есть ли хоть что-то положительное в этом романе?
Как ни странно, такое в нём имеется. Во-первых, автор в своей нелюбви к нынешней российской власти похвально стоек и последователен, несмотря на различные реверансы и кульбиты в жизни. Скорее всего, именно поэтому он не принимает должную быть близкой его творческому складу официальную версию о пригожинском цирке-шапито в самолёте с употреблением запрещённых веществами и жонглированием гранатами. И создаёт свой вариант скучного, тихого и обыденного отравления по заданию Президента и так уже скисшего бунтаря в унылом, Богом забытом месте. Не сбылось даже предсказание герою, что умрёт он обязательно под образами. Такой чести ему не оказано. Мол, жил смешно и помер скушнО.
Такая концовка смотрится продуманно и сильно, и крайне досадно, что досталась она недостойному тексту. Во-вторых, у автора иногда случаются лирические просветления и ему, как и встарь, ещё удаются сочные, ярко-киношные картинки:
«Африка дохнула парилкой, эвкалиптовым веником, обожгла затуманенным солнцем, ослепила фиолетовыми цветами огромного дерева, в котором бушевал жаркий ветер, и глаза слезились от едкой пыльцы».
*
«Она летала пальцами по груди, плечам, спине, и у него от касаний случались вспышки. На мгновение он видел золотой пистолет, синего жука, фиолетовую точку, куда подлетал вертолёт, и сиреневый глаз антилопы, и цветущее дерево перед дворцом, и он втыкает ствол автомата под рёбра великана, и фламинго плавно летит над водой, и следом течёт его розовое отражение. Она будила в нём видения, словно просматривала его жизнь и что-то искала в ней, то, что он сам не сумел разглядеть».
Это вовсе не высоты стиля и образности, но в любом случае это намного лучше, чем остальные погонные метры текста романа, выполненные в стилистике макулатуры девяностых годов, с утомительными авторскими рефренами, откровенными ляпами и высокопарным бредом, который выдаётся за сатиру.
Один мой коллега наивно восхитился «полосатыми арбузами с алой хохочущей сердцевиной» в исполнении мастера, отметив это как точную авторскую находку. Мол, так и только так об этой ягоде и нужно писать! На самом же деле хохочущие арбузы — заурядная банальность, ими забит интернет во множестве вариантов, от текстов до картинок. Так что лучше умилиться тому, что Александру Проханову не чужд развлекательный сёрфинг в сети, и у писателя всё идёт в дело.
Но это автору мало помогает, и недостатки романа перевешивают редкие удачные места с разгромным счётом. И навязчивый старческий эротизм автора вовсе не оживляет текст. Проханов словно решил поспорить с изречением Монтеня: «Стыдливость украшает юношу и пятнает старика», чтобы предстать перед недоумевающим читателем в незапятнанном виде, издавая вой марала во время брачного танца. Но итог подобных литературных шалостей в преклонном возрасте предсказуем — обвисшая стрелка промеж мятых куполов.
Есть ли в этом вина самого автора? Нет в этом вины автора. Автор волен творить всё, что ему вздумается, особенно когда ему под девяносто лет и он запросто может спрятаться за ширму-присказку про дедушку, который старый и которому всё равно. Кто виноват в таком случае? Зарекался я поминать редакцию «КПД», но да простят меня читатели, случай уж больно вопиющий. Что заявлено об этой редакции на сайте издательства АСТ? А вот что: «В редакции “КПД” будут издаваться преимущественно отечественные авторы, поднимающие в своих произведениях вопросы патриотизма, долга, преданности и чести».
Как говорил режиссёр Якин из кинокомедии Гайдая: «Боже мой, какой текст, какие слова!» А что на деле? На деле, числись в штате «КПД» хоть один мало-мальски пригожий редактор, он постарался если не привести прохановский текст в адекватное состояние, то хотя бы значительно купировать его бредовость. И роман «Лемнер» с оговорками, но можно было бы предложить рисковым читателям. Но это откровенно умозрительное рассуждение, ибо имеется проблема посерьёзнее. В реальности, особенно нынешней, нормальный редактор этот текст должен был «завернуть» без всякого редактирования ещё на дальних подступах. Хотя бы потому, что кроме профессиональной обязанности отсеивать графоманию, литработник якобы патриотического направления должен понимать, что делать в стране можно, а чего категорически не следует.
Как было уже сказано, чем абсурднее преподносимая читателю «картинка», к тому же повторенная несколько раз, тем прочнее она засядет в его сознании. О чём вспомнит среднестатистический родитель, доведись ему сначала прочитать «Лемнера», а потом получить предложение отправить ребёнка в лагерь с военно-патриотическим уклоном? Правильно — о том, что там его чадо научат об стенку стукаться да на полу валяться, убитого героя отыгрывая.
Если господа из «патриотической» редакции уверены, что глумливые строки о некротическом лицедействе с набором детей в качестве пушечного мяса — это то, что нужно нашему обществу и эту импортозамещённую «сорокинщину» надо непременно издавать — то вся редакция, при здравом рассуждении, подлежит увольнению и закрытию.
Как это со стопроцентной вероятностью произошло бы, например, в соседнем с нами Китае, где к воспитанию патриотизма подходят самым серьёзным образом на государственном уровне. Возможно ли в Поднебесной появление произведения, в котором будут фигурировать двойники Председателя, тренирующиеся в повторении его движений и выступающие от его имени с трибуны? Осуществим ли в Китае выход романа, где пусть даже в исполнении отрицательных персонажей будет рассказана история, как Председатель омолаживается, принимая ванну с молоком девственниц-россиянок, цистерну с которым ему регулярно доставляют из Москвы? Не спрашивайте про технические нюансы — раз один графоман сумел придумать пиявок, что впрыскивают кровь, то и надоить девственниц не велика задача для безудержного пера…
И не в одном Китае относятся к литературе как к важнейшему явлению, формирующему социум. Терри Иглтон, классик английского литературоведения, писал в книге «Теория литературы» о сущностном смысле литературы как идеологии: «Литература, в том значении этого слова, которое мы приняли, и есть идеология. Она состоит в очень близких отношениях с вопросами социальной власти». Наш отечественный Белинский тоже совершенно верно рассматривал культурное значение литературы именно как опыт социально-значимого действия.
Важно понимать, что литература — это прежде всего социальная идеология. И в случае с романом Александра Проханова «Лемнер», как говорится? — получите, распишитесь. Это не раблезианство с босхианством, не сатирическая метафизика, не расхристанная мясная провокация, не экзальтированный лубок и ничего из остального словоблудия нанятых или добровольных защитников сего творения. Сам по себе прохановский текст является, увы, лишь забродившей и прокисшей графоманией, записками сумасшедшего. В виде рукописи может быть интересен и полезен только врачебной комиссии, да и то не всем членам.
А вот издание этого текста в крупнейшем холдинге страны под «патриотическим» соусом в якобы профильной редакции (на деле — в подконтрольной «индейской резервации», а точнее, в специальном концентрационном литературном секторе) — это подлог и диверсия.
Именно так и дискредитируется патриотизм.
Повторюсь: при здравом рассуждении редакция, выпустившая подобное, должна быть распущена. Уволены должны быть все, от указанных в выходных данных главного и литературного квазиредакторов до взятого «на прокат» горе-корректора. Но это при здравом рассуждении. А такого в ситуации с отечественной патриотической литературой официально не предусмотрено.
Источник: https://webkamerton.ru/2025/10/opavshaya-strelka-myatye-kupola-i-stremitelnyy-domkrat-aleksandra-prokhanova