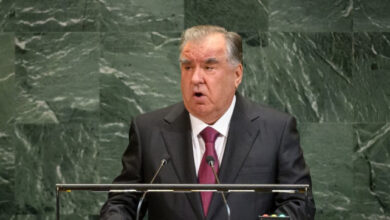Фото: архив пресс-службы
В онлайн-кинотеатрах Okko и START идет второй сезон «Лихих» — сериала Юрия Быкова о криминальном мире 1990-х. Главный редактор Time Out Мария Троицкая и редактор рубрики «Кино» Дмитрий Евстратов поговорили с режиссером о том, какой получилась вторая часть, о судьбе авторского кино в России, любви и хэппи-эндах.
Дмитрий Е.: Давайте начнем с «Лихих». Чего зрителям ждать от второго сезона?

Кадр из фильма «Лихие»
В каком-то смысле первый сезон получился более подростковым: там много про взросление главного героя, про то, как он становится человеком, как впервые сталкивается с выбором. Там есть даже детские мотивы, связанные с отцом.
Второй сезон — это уже история о взрослых людях, оттого более жесткая и глубокая, хоть я и не слишком люблю такое определение. Герои действуют как сформированные личности. У них есть понимание, есть опыт, есть ошибки за плечами, но это уже не дети. Поэтому, в отличие от первого сезона, который был более бодрым, юным что ли, вторая часть, конечно, уже не про детей, а про созревших людей.
Мария Т.: В первой части мы видели, как мальчик взрослеет под влиянием отца. Это была сильная психологическая линия. Что в центре второй части, когда герои уже повзрослели?
Во второй части глубина скорее не смысловая, а эмоциональная. Герои проходят через пограничные состояния: жизнь и смерть, любовь и одиночество, дружба и предательство.
Смысл при этом остался прежним. Это история о тупике. О тупике отношений «свой — чужой». Когда отец передает сыну свой опыт, свое мировоззрение: каким был я, таким будешь и ты. Тем самым это закрепляет насилие, жестокость, систему выживания как норму. 1990-е — это провал в первобытно-общинные отношения с необходимостью выживания после социально-ориентированной советской системы.
Мария Т.: Сейчас мы все чаще возвращаемся к 1990-м. Есть проекты, которые говорят о времени без прикрас, как «Аутсорс» или «Лихие», но есть кино, романтизирующее это время. Что вы думаете об этом?

Кадр из фильма «Лихие»
Я не думаю, что авторы намеренно романтизируют зло. Вряд ли Коппола, снимая «Крестного отца», пытался доказать, что сицилийская модель взаимоотношений в Нью-Йорке XX века — это нормально. Он показал, что люди остаются людьми, даже если они банда: они любят, они страдают. Просто когда работаешь для широкой аудитории, перед тобой ставятся определенные задачи и неизбежно появляются образы, в которые зрители влюбляются. Все влюбились в Марлона Брандо, Сашу Белого, героя Янковского в «Слове пацана». Задача нашей головы — отличать эмоции от смыслов. Так устроено восприятие: зрителю нужен герой, за которого можно держаться. И в этом нет злого умысла.
Но у меня никогда не было задачи влюблять зрителя в персонажа. Это касается и «Лихих», и других моих картин. Думаю, за 15 лет это стало уже понятно. Наверное, такое случалось только однажды — с Меглиным из «Метода». В остальном главное для меня — история. Мне нравится, когда она динамична, когда много эмоциональных аттракционов, когда есть острые конфликтные ситуации. Думаю, после моих картин остается сухое, черствое и грустное ощущение реальности. В «Лихих» я и пытался этого добиться — деромантизировать насилие.
Мария Т.: И все равно к некоторым героям мы проникаемся. Я жила в 1990-е и видела вокруг таких парней.
Конечно, это привлекательная фактура. Людей инстинктивно тянет к силе, к надежности, к тому, кто может защитить. В девяностые это было особенно заметно. Сильный человек притягателен, но за этим всегда есть обратная сторона. Сильный может постоять за женщину, но в другой день прийти домой в стрессе и эту же женщину избить. Если хочешь жить за каменной стеной, за стеной жить и будешь. Я склоняюсь к тому, что никакой другой ценности, кроме любви, не существует — она сглаживает острые нравы. Так что влюбленности в силу у меня нет, хоть это и одна из главных кинематографических фактур. Меня привлекают другие люди. Интеллигентные, воспитанные, приличные.
Мария Т.: А кто такой, по-вашему, приличный человек?
Терпеливый, внимательный, умеющий не поддаваться на провокации. Человек, который на вопрос «Как дела?» не начнет рассказывать все и вся, даже если у него все плохо. Человек, который умеет прощать, бороться с любыми проявлениями собственной ненависти, который понимает, что зло — это порождение страха и глупости.
Дмитрий Е.: Давайте перейдем к «Методу». Вы говорили, что первый сезон — завершенная история, и поэтому отказывались делать второй. Каково было возвращаться к третьему?

Это странное чувство. Я пока не понимаю, что получится в итоге. «Метод» давно стал франшизой, у которой много авторов — креативный продюсер, онлайн-кинотеатр, а не только режиссер. Мне предложили оригинальную концепцию: Меглин уже не центральная фигура и управляет набранным отрядом. Для меня это, прежде всего, возможность поработать с новыми артистами, попробовать другие решения.
Скажу философски: любая работа приближает к пониманию того, что тебе нужно и не нужно. В последнее время я постепенно понимаю, что хочу заниматься камерным авторским кино. Это вовсе не означает, что я не должен снимать сериалы или делать какую-то ремесленную работу. Просто все больше думаю, что жизнь коротка, и я хочу тратить ее на истории, которые действительно важны для меня.
Дмитрий Е.: Как раз поговорим про будущее российского авторского кино. Сейчас почти все деньги индустрии у стримингов. Их формат — это в основном сериалы с четко прописанными правилами и законами. А что будет с авторским кино?
С российским кино все будет замечательно.
Ситуация такова, что мирового фестивального проката для нас больше нет, как нет и рынков сбыта. Все замкнулось внутри страны, авангард фестивального движения глобально обходит нас стороной. Все это закончилось в силу объективных причин. Но я не думаю, что это конец в целом.
Авторы должны задаваться более глубокими вопросами — зачем вообще они создают кино. Посмотрите на Германа-старшего. Он снимал фильмы «на полку», они могли годами не выходить, пролетать мимо крупных фестивалей, но это не помешало ему остаться опорой отечественного кинематографа. Ты снимаешь для того, чтобы кто-то это увидел. Это единственный возможный путь — путь самурая. А потом уже время и люди решают, важно это или нет. Иногда это оценят два человека, иногда — двести тысяч. Это не имеет значения. Главное — сказать то, что хотел. А карьерный и имиджевый рост режиссера или продюсера фактически свернулся до внутреннего рынка.
Дмитрий Е.: Один из ведущих отечественных фестивалей, «Маяк», был создан при поддержке фонда «Кинопрайм», он же помогает авторскому кино. А что произойдет, если исключить «Кинопрайм» из этого уравнения? Где молодым авторам брать деньги на кино?

Всегда есть Минкульт, который и является основным спонсором этого кино. В отдельных случаях помогают независимые инвесторы — такое финансирование позволяет чуть больше с точки зрения проблематики и цензуры. Авторское кино — все-таки про смыслы: собрались, выехали на природу и сняли за копейки. Конечно, с условной «Тонкой красной линией» Терренса Малика так не получится, но это скорее исключение из правил.
Конечно, режиссеры хотят снимать авторское кино, но во-первых, работа над такими фильмами не может быть поставлена на поток, это всегда результат накопленного опыта. А во-вторых, жизнеобеспечение автора формируется за счет ремесла — снять сериал раз в два года, чтобы штаны не упали, не так уж и сложно. Если возникает желание сделать авторское кино, ты начинаешь искать финансирование, так что это не вопрос денег и спроса, это про потребность создавать. Нет возможности высказаться здесь — можно найти ее в других местах.
Дмитрий Е.: Посыл большинства ваших интервью в том, что вы сильно меняетесь. А меняется ли ваше кино с учетом среды и внутренней трансформации?
Авторское кино всегда начинается с себя, с внутренних ощущений. Я начинал с тем, которые сейчас мне не слишком близки — про чиновников, про полицейский беспредел и другую социальную критику. Эти проблемы — не знаю, убедительно ли — я уже отработал. Теперь я хочу снимать о себе. У меня полно тараканов, сложностей, ошибок, сомнений, и мне хочется исследовать их через кино. Проблем и вызовов много — мне необходимо рефлексировать. Так что мои фильмы точно уйдут от социально-критического. Хочется говорить честно о том, что волнует, а волнуют меня другие вещи.
Дмитрий Е.: Существует мнение, что трагический финал — слабость сценариста. Проще дать герою проиграть, чем собрать его по кусочкам и позволить выиграть. А к чему ближе вы — к хэппи-эндам или к трагедиям?
Все зависит от задачи, мировоззрения автора. Алексея Балабанова или Ларса фон Триера вряд ли можно назвать оптимистами. Иногда история сама подсказывает, что выхода нет, и финал должен быть безысходным. А иногда важно подтолкнуть героя и зрителя к прозрению, показать, что путь был трудным, но он чему-то научил. Так что вопрос о хэппи-энде и трагическом финале — спекуляция. Даже светлый и позитивный человек может снять кино с печальным финалом. И наоборот. В моих первых картинах я хотел показать, как в мире все плохо, потому что таким было мое мировоззрение. Но и сейчас я могу прийти к подобным финалам. Катарсис — это прозрение, а не хэппи-энд или его отсутствие.
Мария Т.: И все-таки — любовь. Вам интересно о ней снимать?

Кадр из фильма «Лихие»
С одной стороны, чтобы снимать о любви, нужно любовью обладать. Не уверен, что у меня есть этот навык — любить. Конечно, есть теплые чувства к родителям, сестре, но в личном плане я что-то упустил. У меня нет дикой влюбленности, которая заставляла бы бежать за человеком, так что, наверное, я не могу рассказывать о любви. Только делать ее частью какого-то большого и сложного процесса. И такие планы есть. Сейчас я работаю над «Вершиной» — картиной о том, как человек осознает, что один в поле не воин. Для меня сегодня главное — показать, что человеку нужен человек. Что одиночество — тупик. Что важно уметь протянуть руку ближнему.
Мария Т.: Разве это не есть любовь?
Конечно, нет! Любовь — это инстинктивное ощущение важности человека, сконцентрированное внимание на нем. Когда ты живешь прежде всего ради того, чтобы ему было хорошо. А когда у человека на первом плане он сам — в таком случае не думаю, что можно говорить о любви.
Мария Т.: В одном из интервью вы говорили, что деньги не имеют для вас большого значения. А если в новый фильм потребуется вложить свои?
Я готов потратить свои деньги на любое кино — авторское или ремесленное, — потому что оно выходит под моим именем. Это же моя репутация. Если нужно вложиться — я вложусь, это не страшно. Куда важнее здоровье, сила воли, способность работать над собой. Деньги можно потратить на ящик водки — напиться и умереть. Так что без воли и внутренней дисциплины ничего не получится. В своей жизни я уже принимал решения, исходя из того, что деньги важнее. И это были ошибочные решения. А если есть любовь, то деньги действительно не имеют большого значения.
Источник: https://www.timeout.ru/msk/feature/zlo-eto-porozhdenie-straha-i-gluposti-intervyu-s-yuriem-bykovym